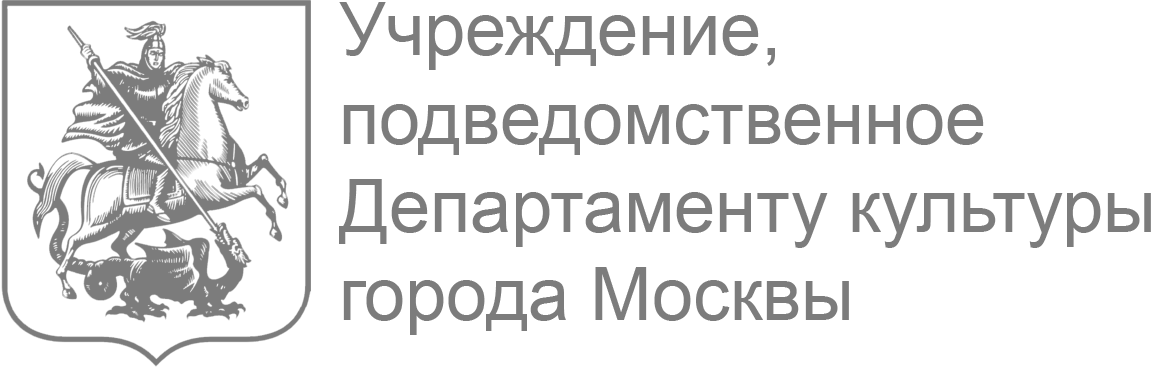Картер-Джонсон, А. Айрис Грейс. История особенной девочки и особенной кошки / Арабелла Картер-Джонсон ; пер.Мария Фетисова ; худож. Эллис Тайт. – Москва : Livebook, 2018. – 368 с. : ил. – 12+
ISBN: 978-5-9909712-0-2
#личный_опыт #зарубежный_опыт
#инакость
АННОТАЦИЯ:
Айрис Грейс родилась в сентябре 2009 года в Британии в состоятельной семье, владеющей частным домом и большим садом. С самого рождения дочери мама Айрис понимала, что девочка отличается от сверстников. «Дочь не могла никому смотреть в глаза, не играла с игрушками, спала, где угодно, но только не в своей кровати, имела кучу навязчивых привычек, до нервных колик боялась воды и наотрез отказывалась мыться, а иногда – одеваться, – перечисляет Арабелла. – Как объяснили психологи, непредсказуемость и хаос окружающего мира наполняет её страхом и паникой». В возрасте двух лет Айрис поставили диагноз – тяжёлая форма аутизма. Её родители твёрдо решили найти способ достучаться до девочки и сделать всё возможное, чтобы Айрис чувствовала себя счастливой.
Первый прорыв случился благодаря рисованию. На своей страничке в социальной сети мама стала размещать работы дочки. Картины трёхлетней Айрис стали настоящей сенсацией в мире искусства: её рисунки привлекли внимание известных художественных критиков, они стали продаваться на благотворительных аукционах.
А ещё у Айрис появилась кошка Тула, преданный друг и проводник. Благодаря Туле Айрис решилась на самый смелый шаг для ребёнка с аутизмом – научилась доверять окружающему миру: крепко спать, ездить на велосипеде, не бояться воды.
Талант Айрис и её трогательная дружба с Тулой покорили весь мир: о них пишут европейские и американские издания, а телеканалы снимают передачи. В 2017 году компания Whiskas выпустила видеоролик об Айрис и Туле, который набрал более 18 миллионов просмотров.
Книга, написанная мамой Айрис, – о том, что любовь родителей, их решимость искать выход и верить в своего ребёнка важнее любых диагнозов.
ЦИТАТА:
«Я изучала различные безопасные методики и терапии. Каждую ночь я подолгу читала, как подтянуть Айрис игровой терапией под названием Floortime или son-rise. Они пришлись мне по душе, напомнив о том, как я училась общаться с лошадьми. Согласно этим методикам необходимо налаживать связь, используя «индивидуальный язык» пациента, добиваясь невербального общения, включающего улыбки, взгляды, тыканье пальцем, жесты и неподдельную радость, вызванную общими интересами. Эти чудесные моменты социального общения могут отсутствовать или быть менее очевидными у детей с аутизмом… Все действия рассматривались как целенаправленные и не подлежащие игнорированию. Сначала вы следите за достижениями ребёнка, выясняя, что его интересует: и я наблюдала за Айрис, делая заметки о природе, игрушках, текстурах, цветах и вещах, которые она долго изучала или подпрыгивала от восторга, увидев их. С головой погружаясь в эти занятия, я стала лучше понимать, почему её интересуют именно эти вещи или явления… Я думала о том, как использовать полученную информацию. Необходимо было придумать занятие на основе результатов наблюдений за реакциями Айрис, что позволило бы ей включаться в игру на комфортных для неё условиях и испытывать от занятий радость. Во время таких занятий нужно обращать внимание на сильные, а не слабые стороны Айрис и развивать их. Это основа для понимания ребёнка и создания комплексной программы, учитывающей его индивидуальные особенности… Ещё одна цель заключалась в том, чтобы развить доступные Айрис возможности по максимуму, и поощрять общение, но я понимала, что до этого очень далеко. Поэтому я решила пока просто узнать Айрис так, как никогда раньше не пробовала. Я хотела последовать за ней и понять её мир, а не пытаться всё время заставить вписаться в наш.»
«Затем врач начертил на листе бумаги линию и сказал, что это и есть спектр. На одном конце линии он написал «тяжёлый аутизм», на другом – «синдром Аспергера». Сделав пометку рядом с «тяжёлым» концом, он пояснил: – Айрис демонстрирует значительное нарушение речевого развития, речи и навыков раннего обучения. – Пока доктор говорил, я глядела в его непроницаемые глаза. Уверена, он хотел, чтобы я как можно быстрее это приняла, поверила и признала. Он не понимал, что я уже смирилась с вероятным диагнозом. Я нуждалась в надежде, а не в том, чтобы мне заявили: возможно, она никогда не заговорит. Я хотела, чтобы он увидел в Айрис свет, который видела я, общаясь с ней дома, рисуя или наблюдая, как она реагирует на природу, её невероятное сосредоточение и интерес к книгам. Но эти достоинства, казалось, никто не учитывал. Даже хуже: их записали в недостатки, и я не могла этого вынести. Я ненавидела эту бумажку. Я прекрасно понимала, что это неразумно, но мне всё равно хотелось скомкать её, сжечь и больше никогда о ней не вспоминать. Мы преследовали одну цель: чтобы помочь Айрис и поддержать её, ей нужно поставить диагноз, но никакое рациональное мышление не могло заглушить охватившую меня грусть. Я злилась, глядя на врача: злилась, что он недостаточно доброжелателен, злилась на всех врачей, что они не находят для нас никаких ответов, кроме названия болезни, и за их уверенность в том, что ничего не сделаешь, и надежды нет.»
«Долгие месяцы я не понимала, почему Айрис так чувствительна, а значит, не могла ей помочь: чтобы принять помощь, дочка должна отлично себя чувствовать. Кроме того, Бекки (прим. – эрготерапевт) обладала более жёстким характером и более трезвым взглядом на жизнь, и мне было полезно её послушать. Она помогла мне понять, что Айрис нужно вписаться в мир, и я должна готовить её к этому – а значит, чаще «выходить в свет» и побуждать дочку достигать большей самостоятельности. Это знание мне пригодилось.»
«Все пришли в восторг от Айрис, не разговаривающей трёхлетней девочки, которая рисовала словно импрессионист. Именно тогда мы острее чем когда-либо осознали: общество не понимает, что значит жить с аутистом. Это и вдохновило меня приоткрыть завесу, продемонстрировав через страничку на «фейсбуке», как на самом деле живёт Айрис. У нас появился шанс добиться реальных перемен. Моя идея заключалась в том, чтобы рассказать людям об Айрис, объяснить, почему она себя так ведёт, чтобы со временем они полюбили все её чудачества, начали проникаться ею и радоваться её достижениям. Потом, встретив кого-либо с подобными отклонениями, они бы по-доброму и с пониманием отнеслись к неожиданному или иному поведению. Было бы здорово, если бы люди не обращали внимания на инвалидность, а видели за болезнью личность. Мне бы хотелось, чтобы они не судили по диагнозу и понимали – в инаковости нет ничего страшного... Я читала письма от родителей со всего света, только когда Айрис играла в саду. Они частенько оказывались невероятно трогательными, и я больше не чувствовала себя одинокой: тысячи людей ощущали то же самое, что и я, и благодарили за то, что мы поделились своей историей. родители, только-только получившие диагноз, черпали из истории Айрис надежду.»